Уж не пародия ли он что значит
Чудак печальный и опасный, созданье ада иль небес
Цитата из романа в стихах «Евгений Онегин» (1831 г.) русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837). Слова о главном герое романа Евгении Онегине. Татьяна Ларина зашла в дом, где раньше жил Евгений Онегин, и стала листать книги, которые читал Евгений. Татьяна обратила внимание на пометки, которые делал Онегин и из них стала понимать, кто он на самом деле (стр. 24, глава 7):
XXIII.
Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон.
Уж не пародия ли он?
Примечания
↑ 14) — Русский помещик, разыгрывающий роль разочарованного героя поэмы Байрона «Странствования Чайльд-Гарольда».
Уж не пародия ли он?
Для существующего в двойной рефлексии все обстоит именно так: сколько пафоса — ровно столько же и комического; они обеспечивают существование друг друга: пафос, не защищённый комизмом,– это иллюзия, комизм же, незащищённый пафосом, незрел
Серен Кьеркегор. Страх и трепет
В русской литературе много насмешки. Быть может, это самая смешливая из литератур. Возьмите одни названия. «Герой нашего времени» — то есть не столько собственно герой, сколько выразитель настоящего момента, который, как известно, всегда проигрывает моменту минувшему. «Горе от ума» — оказывается, можно быть не только умным, но и умным с лишком. «Обломов», «Идиот» (от др.-греч. ἰδιώτης — отдельный человек, частное лицо; несведущий человек) — люди неуместные, лишние, отколотые от всего серединного, т.е. здорового и правильного — и отколотые справедливо.
Уже самым заглавием своей книги русский классик как бы расшаркивается перед читателем: «Не стоит, дескать, воспринимать моего героя чересчур серьезно, он ничего, он так; мелочь, пустяк; частность, не понятно с чего вдруг возомнившая себя сердцевиной целого». И что ж? Мечется наш герой между западными традициями просвещения, сентиментализма, классицизма, романтизма и реализма, мечется и не умеет найти своего места, такой большой и такой ненужный. Отсюда, полагаем, и растет насмешка. Смешон диссонанс, несовпадение притязаний и реальности: Печорин есть герой такого времени, которое по определению своему не способно производить героев. Смешна неуместность, неустроенность: при всем своем возвышенном облике Рудин оказывается обычным приживальщиком. Смешна лишность, эта едва ли не главная характеристика русского героя. Осмелимся заметить на полях, что сам этот тип «лишнего человека» есть движение, преодолевающее человека маленького, который покуда еще стоит ногами на европейской почве с ее натурализмом и сентиментализмом, и проторяющее дорогу человеку подпольному, который никакой почвы под ногами и вовсе не чует.
Проблема самобичующей насмешки над «лишностью» со всей глубиной поставлена Блоком в статье «Ирония»:
«Я знаю людей, которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голоду, что изменяла невеста. И мне самому смешно, что этот самый человек, терзаемый смехом, повествующий о том, что он всеми унижен и всеми оставлен, — как бы отсутствует; будто не с ним я говорю, будто и нет этого человека, только хохочет передо мною его рот. Я хочу потрясти его за плечи, схватить за руки, закричать, чтобы он перестал смеяться над тем, что ему дороже жизни, — и не могу. Самого меня ломает бес смеха; и меня самого уже нет. Нас обоих нет. Каждый из нас — только смех, оба мы — только нагло хохочущие рты».
Характерен этот импрессионистский прием синекдохи: название части — хохочущего рта — вместо целого — человека. Характерен не только в свете приведенных выше измышлений о частности русских героев, но и в смысле художественном. Так у Достоевского: униженные и оскорбленные в момент жизненного кризиса целиком сводятся до своих «маленьких лиц», до рук: ладоней, сложенных в жесте мольбы, или кулаков, грозящих обидчику.
Так рождается русский реализм.
Достоевский называл его реализмом фантастическим. Битов дал гениальную характеристику этому фантастическому: «Я нахожу, что русская литература, начиная с Золотого века, была реалистична в этом усилии обретения области реальности [добавим — и области «самости»]. Позднее это было названо постмодернизмом… Скажем, Онегин, Печорин, Обломов — это всё люди без свойств или герои — инструменты познания».
Повторим вслед за Блоком: героя русского романа нет, он человек без свойств, хохочущий рот; он отсутствующее, намекающее, однако, на необходимость некоего присутствующего, некоей области, где дозволяется реальность. О чем говорит Битов? Что познается с помощью инструментальности русского героя? Да ведь собственная самость — кажется, что читательская, но прежде всего — писательская. В этом смысле любой русский роман есть биография, возникающая в ходе попытки описания себя, т.е. — создания автобиографии; иными словами, русский роман есть исповедь.
Попытка обретения себя через исповедь — традиция, в литературном плане восходящая к Блаженному Августину — связана, по Битову, с «немедленным комментированием, с наличием самого автора, населяющего это [литературное] пространство». Автор воплощается в своем произведении. Поэтому его упрямый комментарий — это, конечно, кокетство и лукавство, но в то же время — и вариация вечной русской оговорки, что пытается перегнать скептицизм слушателя или читателя, пытается не отдаться целиком во власть другого; все те же «дескать» и «однако ж», все то же «знаю, знаю, смешон мой герой, и более вас знаю, а все же дадим ему возможность выговориться — пускай он и последний человек, а все ведь брат мой».
В личном читательском опыте точку отсчета этого русского реализма я связываю с известной сценой из «Евгения Онегина». 7 глава, Татьяна оказывается в «молчаливом кабинете» Евгения. Она видит: бюст Наполеона, портрет Байрона, «певца Гяура и Жуана да с ним еще два-три романа, в которых отразился век».
Здесь примечательно: и Наполеон, и Байрон воспринимаются романтическим сознанием как герои, противостоящие своему времени и веку, герои, дерзнувшие пойти наперекор течению и тем самым повернувшие это течение вспять. Совершенно иначе описывает их феноменологию Пушкин: то, что противостоит, в то же время и отражает, и вот в произведениях Байрона «…современный человек изображен довольно верно с его безнравственной душой, себялюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом».
Байронизм пленял юного Пушкина как протест против всего суетного, внешнего, мимоидущего — и что же, вдруг томики «Гуяра» и «Дон Жуана» оказываются выражением себялюбия и праздного мечтания, прикрытием духовной импотенции, пустоты. Пояснение к этому сдвигу в мировоззрении Пушкина дает Лотман в комментарии к «Евгению Онегину»:
«Время работы П над серединой седьмой главы совпадало со сложными процессами в творчестве П. В сознании поэта боролись две — в этот период противоположные и не находившие синтеза — тенденции. Первая из них — стремление к историзму, которое толкало П к принятию объективного хода исторических событий. (…) Не лишенные оттенка «примиренияс действительностью», такие настроения давали, однако, мощный толчок реалистическому и историческому сознанию и определили целый ряд антиромантических выступлений в творчестве П этих лет (от «Полтавы» и «Стансов» до заметки о драмах Байрона). Однако пока еще подспудно, в черновиках и глубинах сознания зрела мысль о непреходящей ценности человеческой личности и о необходимости мерить исторический прогресс счастьем и правами отдельного человека.
На скрещении двух тенденций образ Онегина получал неоднозначное толкование».
Обратимся теперь к заметке о драмах Байрона, на которую ссылается Лотман. Заметка эта, быть может, прольет даже и слишком яркий свет на интересующую нас тему «лишности»:
«Байрон[-драматург] бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею, то, наконец, странствующим посреди…»
Байрон, обращаясь к несвойственной ему роли драматурга, становится подражателем, пародией — то ли на самого себя, то ли на классический гений Гете и Гомера. Байрон, пишет Пушкин, этим поворотом к себе как бы совершенно и израсходовал себя, и его драмы есть унылая стрельба вхолостую, умножение пустующего. Байронизм как отчаянный протест против всего «реального» и «настоящего», «мрачный, могущественный, столь таинственно пленительный», вдруг выродился в жанровый жест, в «род скептической поэзии» — и только. Герой Байрона оглянулся назад — и магия удерживания и обретения реальности — и обретения себя самого — рассеялась, он тотчас же стал своим двойником.
Зная — или, вернее, предчувствуя это — Татьяна еще раз взглядом окидывает кабинет Онегина– и:
«Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?…
Уж не пародия ли он?»
То, что еще вчера казалось Татьяне бесценным, что томило душу «полумучительной отрадой», все это вдруг сходится в одном смешливом слове: пародия. Каждая строчка здесь указывает на ущербность, вторичность Евгения: «подражанье», «ничтожный», «чужих», «модных», «призрак». Все закрутилось в произвольном, капризном сочетании качеств, в пестром соре, который скрывает внутреннюю пустоту и непреходящую скуку. «И томит меня тоскою однозвучный жизни шум…»
«Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал», — пишет Пушкин весной 1828 года, как раз в период работы над упомянутой сценой в кабинете Онегина. Кто воззвал — разумеется Господь, который творит ex nihilo; но воззвание предполагает ответ, а у Онегина нет сил ответить — и воплотиться до конца. Какая-то инерция характера — вернее, бесхарактерности — скатывает его обратно в небытие, и он, не умея совладать со своим ничтожеством, наскоро прикрывает его Гарольдовым плащом, блеском света, романтической ужимкой, молчаливым кабинетом, роскошью и негой модной.
Так ведь и от ничтожества Акакия Акакиевича осталась одна шинель, и от циников Блока — один смеющийся рот. В этом смысле синекдоху можно понимать как самый сущностный прием русской литературы. Это парадокс — ибо синекдоха вскрывает отсутствие всякой сущности, ее произвольность. Напомним, однако ж, вновь, что всякое отсутствие предполагает необходимость, необходимость присутствия.
В той же заметке о Пушкин пишет: «Когда же [Байрон] стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных».
В этом смысле «Евгения Онегина» можно понять как роман взросления — взросления не героя, но автора, возникающего и крепнущего посредством своего героя. Вступление, в котором речь ведется еще не об Онегине, но о самом авторе, начинается с эпиграфа об особого рода тщеславии, которое требует непременного признания «как в своих добрых, так и дурных поступках». И концовка, сопоставленная с этим началом, звучит уже как преодоление этого рода тщеславия, реализованное в практике исповеди: «И вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим».
Уж не пародия ли он что значит
Здравствуйте уважаемые.
Как и всегда по средам, мы с Вами читаем и слегка разбираем замечательное произведение Пушкина «Евгений Онегин». Напомню, что в прошлый раз мы с Вами остановились вот тут вот: http://id77.livejournal.com/1514233.html
Итак.
И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,
И об Онегине далеком
Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб. но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.
Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому,
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят. На что грустить?
Вопрос про брата непонятен, а в остальном, очень пронзительно.
Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад.
Его здесь нет. Меня не знают.
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор.
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.
Здесь с ним обедывал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйте, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал.
И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»
Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на всё глядит,
И всё ей кажется бесценным,
Всё душу томную живит
Полу-мучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.
Влюбленная женщина. что тут еще сказать. Про Байрона мы с Вами уже говорили, а вот чугунная кукла челом и шляпой, это процентов на 99 небольшой бюст Наполеона Бонапарта 🙂
Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,
Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.
Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень,
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время всё на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.
Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана,
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.
Продолжение следует.
Приятного времени суток.

После отъезда Онегина из деревни, Татьяна, стараясь поддержать в себе неугасимый огонь своей вечной любви, посещает неоднократно кабинет уехавшего идеала и читает с большим вниманием его книги. С особенным любопытством вглядывается и вдумывается она в те страницы, на которых рукою Онегина сделана какая-нибудь отметка. Таким образом она прочитала сочинения Байрона и несколько романов,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно.
«И ей открылся мир иной», объявляет нам Пушкин. Слова «м_и_р и_н_о_й» должны, повидимому, обозначать собой новый взгляд на человеческую жизнь вообще и на личность Онегина в особенности. Затем Пушкин продолжает:
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава богу,
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон.
Уж не пародия ли он?
Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
(Глава VII. Строфы. XXIV, ХХУ.)
Невозможно понять, зачем Пушкин навязал Татьяне все эти критические размышления и зачем он хочет нас уверить, что ей открылся мир иной. Этот «мир иной» и эти размышления о москвиче в гарольдовом плаще не обнаруживают ни малейшего влияния ни на фантастическую любовь Татьяны, ни на ее поступки.
До открытия нового мира она воображала себе, что влюблена по гроб жизни; после своего открытия она остается при том же самом убеждении. До открытия нового мира она беспрекословно повиновалась мамаше; и после открытия она продолжает повиноваться также беспрекословно. Это с ее стороны очень похвально, но для того чтобы повиноваться мамаше в самых важных случаях жизни, не было ни малейшей надобности открывать новый мир, потому что и старый наш мир основан целиком на смирении и послушании.
Пока Татьяна в кабинете Онегина открывает новые миры, один из жителей старого мира советует ее мамаше повезти дочь «в Москву, на ярмарку невест».
Ларина соглашается с этой мыслью, и когда Татьяна узнает об этом решении, тогда она со своей стороны не представляет никаких возражений. Надо полагать, что «ярмарка невест» занимает очень почетное место в том новом мире, который открыла Татьяна. Но если новый мир допускает ярмарку невест, то любопытно было бы узнать, чем он отличается от старого мира и какая надобность была его открывать?
В Москве Татьяна ведет себя именно так, как обязана вести себя благовоспитанная барышня, привезенная заботливой родительницей на ярмарку невест. Разумеется,
Ей душно здесь. она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам,
Туда, где он явился ей.
(Глава VII. Строфа LIII.)
Если все эти действия находятся в строгом согласии с законами ее нового мира, то я осмеливаюсь думать, что она с большим удобством могла бы избавить себя от труда производить свои открытия, потому что все эти открытия были давно уже сделаны самыми отдаленными ее предками. Я полагаю, что в умственной жизни Татьяны онегинские книжки не произвели никакого переворота.
Татьяна до конца романа остается тем самым рыцарем печального образа, каким мы видели ее в ее письме к Онегину. Ее болезненно развитое воображение постоянно создает ей поддельные чувства, поддельные потребности, поддельные обязанности, целую искусственную программу жизни, и она выполняет эту искусственную программу с тем поразительным упорством, которым обыкновенно отличаются люди одержимые какой-нибудь мономанией. Она вообразила себе, что влюблена в Онегина, и действительно влюбила себя в него, начала пылать страстью и делать глупости, подобные кувырканьям влюбленного Дон Кихота в горах Сиерры-Морены. Потом она вообразила себе, что ее жизнь разбита и вследствие этого начала худеть и бледнеть. Потом, видя что ей не удается умереть, она вообразила себе, что теперь она ко всему равнодушна; тогда она отдала себя в полное распоряжение своих родственниц, которые привезли ее на ярмарку невест и там сбыли ее, как хороший товар, толстому генералу.
Очутившись в руках своего нового хозяина, она вообразила себе, что она превращена в украшение генеральского дома; тогда все силы ее ума и ее воли направились к той цели, чтобы на это украшение не попало ни одной пылинки.
Онегин встречается с нею в Петербурге в то время, когда она, драпируясь в свою неприкосновенность, уже украшает своею добродетельной особой жилище толстого генерала. Видя, что украшение генеральского дома блестит самыми яркими красками, Онегин проникается предосудительным желанием вытащить это украшение из-под стеклянного колпака. Но украшение не трогается с места и, оставаясь под колпаком, читает оттуда предприимчивому денди такую проповедь, которая доставляет ему очень мало удовольствия. Этой проповедью, как известно, заканчивается весь роман. Знаменитый монолог Татьяны заключает в себе следующий смысл: зачем вы не влюбились в меня, прежде? Теперь вы ухаживаете за мной потому, что я превратилась в блестящее украшение богатого дома. Я вас все-таки люблю, но прошу вас убираться к чорту; свет мне противен, но я намерена безусловно исполнять все его требования.
Этот монолог доказывает ясно, что Татьяна и Онегин друг друга стоят:
оба они до такой степени исковеркали себя, что совершенно потеряли способность думать, чувствовать и действовать по-человечески. Монолог
Онегин, вероятно, отшатнулся бы от нее, как от неистовствующей фурии, и уже во всяком случае Онегин поступил бы с нею по той программе, которую он наивно раскрыл перед Татьяной в липовой аллее, то есть, п_р_и_в_ы_к_н_у_в, р_а_з_л_ю_б_и_л б_ы т_о_т_ч_а_с. Стоит же в самом деле затевать в генеральском доме скандал для того, чтобы доставить Онегину несколько приятных минут и попользоваться его благосклонностью до тех пор, пока он не привыкнет!
Татьяна задает Онегину вопрос: отчего вы меня не полюбили прежде, когда я была лучше и моложе, и когда я любила вас? Этот вопрос поставлен очень удачно, и если бы Онегин хотел и умел отвечать на него совершенно искренно, то ему пришлось бы сказать: оттого что люди, подобные мне, способны только шутить и забавляться с женщинами. Когда вы были девушкой, тогда мне предстояла необходимость принять на себя, в отношении к вам, серьезные обязанности; мне надо было тогда взять на себя заботу о вашем счастье, то есть об удовлетворении всех ваших материальных и умственных потребностей; раз принявши на себя эту заботу, я бы уже не имел возможности сложить ее на кого-нибудь другого; а такая перспектива приводила меня в ужас, потому что я не способен ни к какому серьезному делу, не способен даже заботиться о материальном и умственном благосостоянии той женщины, которая доставляет мне приятные минуты. Теперь дело совсем другое. Теперь я могу завести с вами веселую интрижку, с таинственными свиданьями, с пламенными объятиями и без всяких будничных, то есть серьезных и спокойных дружеских отношений. Эта интрижка будет продолжаться месяцев пять-шесть, и потом я засвидетельствую вам мое почтение, не обращая никакого внимания на то, любите ли вы меня, или нет.
Когда Онегин писал к Татьяне страстные письма и когда он у нее в доме бросился к ее ногам, тогда он, разумеется, добивался только интрижки.

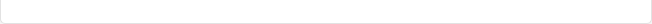
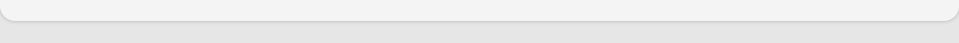
«Проект Культура Советской России» 2008-2010 © Все права охраняются законом. При использовании материалов сайта вы обязаны разместить ссылку на нас, контент регулярно отслеживается.
Уж не пародия ли он что значит
«Герой нашего времени»
Герой нашего времени
Сочинение М. Лермонтова
В «Библиотеке для чтения» на 1834 год напечатано было несколько (очень немного) стихотворений Пушкина и Жуковского; после того русская поэзия нашла свое убежище в «Современнике», где, кроме стихотворений самого издателя, появлялись нередко и стихотворения Жуковского и немногих других и где помещены: «Капитанская дочка» Пушкина, «Нос», «Коляска» и «Утро делового человека», сцена из комедии Гоголя, не говоря уже о нескольких замечательных беллетрических произведениях и критических статьях. Хотя этот полужурнал и полуальманах только год издавался Пушкиным; но как в нем долго печатались посмертные произведения его основателя, то «Современник» и долго еще был единственным убежищем поэзии, скрывшейся из периодических изданий с началом «Библиотеки для чтения». В 1835 году вышла маленькая книжка стихотворений Кольцова, после того постоянно печатающего своп лирические произведения в разных периодических изданиях до сего времени. Кольцов обратил на себя общее внимание, но не столько достоинством и сущностию своих созданий, сколько своим качеством поэта-самоучки, поэта-прасола. Он и доселе не понят, не оценен как поэт, вне его личных обстоятельств, и только немногие сознают всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта и видят в нем не эфемерное, хотя и примечательное явление периодической литературы, а истинного жреца высокого искусства. Почти в одно время с изданием первых стихотворений Кольцова явился с своими стихотворениями и г. Бенедиктов. Но его муза гораздо больше произвела в публике толков и восклицаний, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворения г. Бенедиктова – явление примечательное, интересное и глубоко поучительное: они отрицательно поясняют тайну искусства и в то же время подтверждают собою ту истину, что всякий внешний талант, ослепляющий глаза внешнею стороною искусства и выходящий не из вдохновения, а из легко воспламеняющейся натуры, так же тихо и незаметно сходит с арены, как шумно и блистательно является на нее. Благодаря странной случайности, вследствие которой в «Библиотеку для чтения» попали стихи г. Красова и явились в ней с именем г. Бернета, г. Красов, до того времени печатавший свои произведения только в московских изданиях, получил общую известность. В самом деле, его лирические произведения часто отличаются пламенным, хотя и неглубоким чувством, а иногда и художественною формою. После г. Красова заслуживают внимание стихотворения под фирмою – [фита] – ; они отличаются чувством скорбным, страдальческим, болезненным, какого-то однообразною орпгинальностию, нередко счастливыми оборотами постоянно господствующей в них идеи раскаяния и примирения, иногда пленительными поэтическими образами. Знакомые с состоянием духа, которое в них выражается, никогда не пройдут мимо их без душевного участия; находящиеся в том же самом состоянии духа, естественно, преувеличат их достоинства; люди же, или незнакомые с таким страданием, или слишком нормальные духом, могут не отдать им должной справедливости: таково влияние и такова участь поэтов, в созданиях которых общее слишком заслонено их индивидуальностию. Во всяком случае, стихотворения – [фита] – принадлежат к примечательным явлениям современной им литературы, и их историческое значение не подвержено никакому сомнению.
Может быть, многим покажется странно, что мы ничего не говорим о г. Кукольнике, поэте столь плодовитом и столь превознесенном «Библиотекою для чтения». Мы вполне признаем его достоинства, которые не подвержены никакому сомнению, но о которых нового нечего сказать. Поэтические места не выкупают ничтожности целого создания, точно так же, как два, три счастливые монолога не составляют драмы. Пусть в драме, состоящей из 3000 стихов, наберется до тридцати или, если хотите, и до пятидесяти хороших лирических стихов, по драма от того не менее скучна и утомительна, если в ней нет ни действия, ни характеров, ни истины. Многочисленность написанных кем-либо драм также не составляет еще достоинства и заслуги, особенно если все драмы похожи одна на другую, как две капли воды. О таланте ни слова, пусть он будет; но степень таланта – вот вопрос! Если талант не имеет в себе достаточной силы стать в уровень с своими стремлениями и предприятиями, он производит только пустоцвет, когда вы ждете от него плодов. – Чтобы нас не подозревали в пристрастии, мы, пожалуй, упомянем еще йог. Вернете, во многих стихотворениях которого иногда проблескивали яркие искорки поэзии; но ни одно из них, как из больших, так и из маленьких, не представляло собою ничего целого и оконченного. К тому же, талант г. Бернета идет сверху вниз, и последние его стихотворения последовательно слабее первых, так что теперь уже перестают говорить и о первых. Может быть, мы пропустили еще несколько стихотворцев с проблеском таланта; но стоит ли останавливаться над однолетними растениями, которые так нередки, так обыкновенны и цветут одно мгновение! стоит ли останавливаться над ними, хоть они и цветы, а не сухая трава? Нет.
