Филология и философия в чем разница
КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ О ФИЛОСОФСКОМ
В ЕГО ОТНОШЕНИИ К ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ
1. Сейчас философу самое время подумать о филологии. Если философия первой половины в é ка в основном была (и во многом остается пока) лингвистической, то философия второй половины века становится (и еще долго будет) по существу филологической. Разница не только в интенции и в объекте философствования, но и в самоосознании философом своей работы. Для «лингвистического философа» (и он об этом знает) язык определен и конечен; в каждой данной ситуации исследования он реально познан (или познаваем), описан (или описуем) и внутренне (в пределах его структуры и системы его описания) детерминирован. Для «филологического философа» (хотя сам он об этом часто не знает) текст всегда неопределен, описуем только частично, внутренне недетерминирован и бесконечно даже на данный момент истолковываем и переистолковываем. Напомню, что, с точки зрения лингвиста, текст это язык, а с точки зрения филолога, язык это текст. Витгенштейн и Айер при всём их несходстве философы «лингвистические», а Деррида и Лакан «филологические».
Но гораздо интереснее различие их само-осознания. Филологическая интенция неизбежно ведет философа к историческому самоопределению. В этой связи кажутся забавными термины «постструктурализм» и «постмодернизм», где префикс «пост-» отсылает в первом случае к лингвистике середины века, а во втором к искусству начала века. («Филологическим» современный философ становится, потому что не может найти предмет философствования и не понимает, чудак, что у философии нет своего предмета. Отсюда же обращение еще б ó льших чудаков от философии к современному искусству с легкой руки Хайдеггера, может быть.)
«Филологический философ» обычно ставит себя в конце истории или немного после. «Лингвистический философ» обычно выносит себя как философа за пределы исторического, оставаясь при этом для себя вполне «историческим» человеком (он не может отрицать
историю, потому что ею не занимается). Но есть и другое важное отличие. Язык не способен сказать философу больше, чем в нем самом (то есть в его описании) содержится. Тексту же ничего и говорить не надо: за него будет говорить «филологический философ», равно как и за картину, скульптуру или что угодно другое.
2. Возвращаюсь к филологии. Здоровую и банальную филологическую предпосылку: «текст это всё» «филологический философ» абсолютизирует: «всё это текст». Тем самым он фактически деисторизирует текст, одновременно историзируя себя, даже (и особенно) когда ставит себя «после истории». При этом он не может или не хочет отрефлектировать тот факт, что он уж é (всегда «уже») включил себя в текст как в «историческое». Филология, по сути, не нуждается в появлении новых текстов: она может себя до бесконечности «прибавлять» к уже имеющимся, будучи дисциплиной, по преимуществу ориентированной на исторический объект текст. «Филологический философ», напротив, остро нуждается в новых текстах, ибо из-за рефлективной недоразвитости (а иначе бы он был «просто» философом) видит самого себя таким текстом, причем, как правило, последним. Если он не вовсе невменяем (что тоже иногда случается), «филологический философ» понимает, что он не в состоянии заменить собою как текстом все прочие тексты человечества, и тогда он создает текст негативной содержательности: универсализация как универсальное отрицание Платон, заставляющий Сократа записывать мысли Платона.
Здесь мы переходим к интереснейшему обстоятельству, этнографически локальному, то есть ограниченному рамками европейско-средиземноморско-ближневосточной культуры: тексты этого региона имеют тенденцию не только к индивидуализации, но и к персонализации. Текст всегда (в тенденции!) чей-то, как в смысле формальной авторской принадлежности, так и в том, более существенном, отношении, что филологически автор есть часть текста (а не только нашего знания о тексте): он необходимое измерение объективной текстовости, неотъемлемая сторона вещи, именуемой «этот текст».
Эта персонализация текста имела два важнейших исторических последствия. С одной стороны, тексты оказались сначала спонтанно, а затем осознанно разделенными на две категории: «авторские» и
«неавторские». С другой стороны, каждый отдельный текст превратился в объект внутренней классификации, в результате которой «чисто авторское», «индивидуальное» стало отделяться от «общего», «спонтанного», «неосознанно реализованного» и т. д. Хотя исторически влияние философии на филологию вторично первые философы нашего этнокультурного региона разговаривали, а не писали, феноменологически философия сформулировала метод (и идею) отсылки к текстам как к не-философскому, подготовив этим почву для «чисто» филологического подхода.
Но «чистая» филология, еще верившая, что имеет дело лишь с текстами, да и то далеко не со всеми, не заметила, как начала, во-первых, превращать все тексты в «свои», а во-вторых, создавать такие тексты, которые интенционально являлись сразу и результатами, и объектами филологической деятельности. Вследствие этой «универсалистской» тенденции филологический текст постепенно стал «дублировать» текст изучаемый. Литературоведческое исследование романа реконструирует мышление и знание автора и его персонажей, оно вторично воссоздает их из текста, становясь своего рода «романом романа». Я привожу для примера именно роман, поскольку это наиболее емкий и универсальный из всех жанров литературы, так сказать, ее единственный «мета-жанр». И Фрезер, и Пропп в своих описаниях фольклорных сюжетов явно тяготели к роману. Так или иначе на роман ориентирована любая поэтика сюжетов: он оказался моделью описания всякого сюжета, включая и свой собственный.
3. Филология как универсальная наука о тексте противостоит роману как «универсальному тексту» и одновременно философии как мышлению об универсальном объекте (таким универсальным объектом является само мышление, которое может быть направлено на любой объект). Разумеется (и это крайне важно), что здесь всякая универсальность вторична по отношению к мышлению. Если принять это во внимание, то роман предстанет перед нами как «универсальный текст», филология как «универсальный текст о тексте», а философия как «универсальный текст о мышлении». Последнее чрезвычайно важно, ибо философия есть текст только по условию фиксации (или по «материалу выражения»); ее объект (в отличие от объекта филологии и «филологической философии») это всегда не-текст.
Философия мыслит о мышлении как о не-тексте; даже если последнее текстуально, ее объект не-текстовое в тексте. В отношении текста мышление непременно будет определенным, конечным и дискретным в своих «актах» (единицах сегментации, уровнях и т. д.).
Как объект философии мышление будет текстовым опять же только по условию своей объектности. Текстовость вообще не является необходимым условием мышления в процессе философской рефлексии. Так, например, некоторые древнеиндийские философские учения (в особенности ранний буддизм) не были текстами (в действительном, а не произвольно расширительном смысле слова) или были таковыми лишь до некоторой степени. Очень часто различные феномены мышления в этих учениях всего-навсего «обозначались», а смысл этих «обозначений» по-разному и неполно раскрывался в синхронном или диахронном комментарии.
4. У филологии свой предмет это конкретные тексты. У «филологической философии» свой предмет это мир как текст (или что угодно как текст). У философии своего предмета нет, поскольку ее объект мышление может своим объектом иметь все что угодно.
Философия, филология – да какая разница!
В польской антиутопической комедии «Секс-миссия», шедшей в советском прокате под названием «Новые амазонки», главные герои, заснув на много лет и проснувшись с полностью стертой памятью в эпоху, когда женщины стали размножаться искусственным путем, без мужского вмешательства, спрашивали у последней живой свидетельницы золотых времен традиционной репродукции: у вас, мол, когда-то были мужчины… а для чего вы их использовали-то, для какой нужды?
Боюсь, если в наши дни какой-нибудь преподаватель гуманитарных дисциплин забудется тревожным сном лет на семьдесят, после пробуждения ни слова, ни даже жесты не помогут ему узнать у окружающих: вот у вас когда-то были русский и иностранный языки, литература, изящная словесность, какой вам толк со всего этого был? Ответом будет лишь недоуменный взгляд и еле связное бормотание, весьма отдаленно похожее на человеческий язык образца – пусть даже не самого лучшего – начала XXI века.
На подобные грустные мысли наталкивает российская государственная политика в области образования, причем практически во всех её проявлениях. Андрей Александрович Фурсенко зажег ярким солнышком концепцию «подготовки грамотных потребителей», и лучики её побежали по городам и весям нашей необъятной Родины. Эффектом от них, правда, являются не приятные солнечные ванны, а пожары и пепелища. Дошел черед и до моего родного Ростова и моей alma mater – Ростовского госуниверситета (с 2006 года – ЮФУ).
Марина Александровна Боровская, ровно год назад ставшая ректором одного из ключевых вузов страны, практически сразу стала реализовывать модель поведения, в которой явственно угадывались черточки Салтычихи и сурового генерал-губернатора мятежной колониальной провинции одновременно. Впрочем, до поры до времени действий, совсем уж выходящих за рамки понимания, от госпожи ректора не исходило, поэтому бэкграунд университета был окрашен в относительно мирные цвета.
Русский человек добр и незлопамятен, и даже тот факт, что Марина Александровна еще недавно была объектом пристального внимания ростовских правоохранительных органов в связи с делом о бюджетных хищениях в ЮФУ, не вызывал запредельной злости. На работе ты не гость – утащи хотя бы гвоздь, это у нас всякий сызмальства знает. Помните, как у Шукшина? «Воровал ли он со складов? Как вам сказать… С точки зрения какого-нибудь сопляка с высшим юридическим образованием – да, воровал, с точки зрения человека рассудительного, трезвого – это не воровство: брал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не испытывать ни в чем недостатка, причем, если учесть – окинуть взором – сколько добра прошло через его руки, то сама мысль о воровстве станет смешной. Разве так воруют! Он брал, но никогда не забывался, никогда не показывал, что живет лучше других». Но любому терпению, даже самому длительному, приходит конец. У ростовской общественности этот момент наступил после решения Боровской ликвидировать факультет лингвистики и словесности.
Этот факультет является структурной единицей бывшего педагогического института, «спаянного» с РГУ при создании новой образовательной мегаструктуры, которой, собственно, и стал ЮФУ в нынешнем виде. Таким образом, после уничтожения факультета в Ростове станет попросту негде готовить лингвистов и преподавателей иностранных языков. Уже сам по себе сей факт позволяет охарактеризовать ректорский поступок как акт варварский, абсолютно непродуманный и чрезвычайно недальновидный. Но подлинные восторг и катарсис наступили, когда были озвучены официальные причины расправы над ФЛиСом. Оказывается, лингвистика – это практически то же самое, что филология. Факультет филологии и журналистики в ЮФУ есть, зачем же содержать два одинаковых учебных направления?
Ей-Богу, до последнего момента я был уверен, что путать психиатрию с психологией, философию с филологией и филологию с лингвистикой – прерогатива исключительно совсем уж престарелых бабушек на завалинках. Был, правда, еще один герой все у того же Шукшина в рассказе «Срезал».
«За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина… И тут он попер на кандидата.
– В какой области выявляете себя? – спросил он.
– Где работаю, что ли? – не понял кандидат.
– Да.
– На филфаке.
– Философия?
– Не совсем… Ну, можно и так сказать.
– Необходимая вещь. – Глебу нужно было, чтоб была – философия. Он оживился».
Глеб, как мы помним, по итогам диспута своей бессмысленной демагогией задавил-таки гостя, «срезал», что и отражено в названии произведения. Госпожа Боровская, вероятно, тоже сейчас считает, что «срезала» чересчур умную профессуру, нагло желающую иметь аж два факультета для, как выяснилось, одной дисциплины. Тут-то умникам и объяснили, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – не муж и жена, а четыре разных человека, только наоборот.
Уважаемая Марина Александровна! «Срезать интеллигентишек» – удел глебов капустиных с деревенской пилорамы (да простят меня все достойные люди, трудящиеся на том же поприще). Человеку же вашего статуса и уровня стоит быть более осмотрительным в поступках и их мотивировках. Тем более, тот Глеб односельчан «изумлял, восхищал даже», но – «любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил ещё». Искренне надеюсь, что Вы все же не чужды желания оставить в сердцах ростовчан более достойную память о себе.
Проблема взаимосвязи философии и филологии



Изучение данной темы связано с выяснением культурных, исторических истоков зарождения философии, а также с раскрытием ее экзистенциального смысла. Обратитеськ учебному пособию под редакцией В.П. Кохановского (см. гл. 1, § 2, с. 9-15), а так же к работе М.К. Мамардашвили «Введение в философию» (см. гл. «Появление философии на фоне мифа», см. занятие 1). Опираясь на данные тексты,определите содержание термина философии, предмет и специфику философского знания. Постарайтесь выделить фундаментальные вопросы, которые существуют в философии на протяжении ее существования. Попробуйте объяснить, что значит философствовать и в чем заключается смысл философского вопрошания? М.К. Мамардашвили во «Введении в философию» понимает философию как форму упорядочивания мира. Постарайтесь объяснить смысл данного утверждения. Какие еще существует способы упорядочивания мира? Проанализируйте текст С. Л. Франка «Философия и религия» и работу М. Хайдеггера «Наука и осмысление» (см. занятие 1) и ответьте на вопрос, в чем состоит отличие философии от религии и науки?
Следующий этап работы связан с раскрытием основного вопроса философии. Обозначьте основной вопрос философии по Энгельсу и охарактеризуйте ее основные направления (материализм и идеализм). В чем заключается смысл основного вопроса философии, согласно М. Хайдеггеру и М.К. Мамардашвили? Объясните тезис Мамардашвили о том, что философия выявляет основания порядка. В заключении необходимо рассмотреть вопрос об исторических типах философии. Используя текст статьи В.А. Конева «Философия культуры в современной философии», определите основные парадигмы философского мышления, их проблематику и представителей. В чем состоит отличие парадигамального подхода В.А. Конева от концепции основного вопроса философии Ф. Энгельса?
В заключение данной темы необходимо остановиться на проблеме взаимосвязи философии и филологии в современной науке. ХХ век – это время диалога между филологией и философией, поиска общих методов и способов постижения языка. В литературе возникает такое явление, как философский роман (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст, А. Бретон, Г. Гессе, Т. Манн, С. Беккет, А. Платонов, Д. Хармс, А. Камю), а философия обращается к проблемам языка, его структуры,связи языка и сознания,к вопросу о природе смысла. Если философия первой половины XX века была по-преимуществу лингвистической (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Дж. Остин, Ф. де Соссюр), то философия второй половины века становится по существу филологической (М. Бахтин, Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Деррида, М. Бланшо, П. де Ман). Перед философией встает вопрос о специфике художественного произведения и его автора, о формах и способах интерпретации текста.
Итак, мы видим, что философия и филология имеют общее проблемное поле: это структура языка, вопрос о природе смысла, о содержании и специфике художественного опыта. Но что же общего и что разного между философами и филологами? Прежде всего, у них общий материал – текст. Однако философ и филолог используют разные способы интерпретации текстов. Интерес филолога направлен на культурно-исторические и лингво-стилистические особенности текста, философия стремится к выявлению и раскрытию смыслов текста. Для философии важно само наличие субъекта, способного к понимаю смысла, к его осознанию и утверждению. Философия выступает в данном случае рефлексией смысла. В итоге возникают две модели интерпретации. Одна, философская, касается смысла текста и его понимания и другая, филологическая, интерпретация, связанная с раскрытием лингвистических и художественных особенностей текста. Еще одно различие, на которое необходимо обратить внимание. По словам А.М. Пятигорского, все важное в тексте для филолога выражается словами, для философа важное в тексте словами не выражается. Предмет философского исследования – это всегда не текст, это нетекстовое в тексте (проблема, смысл, значения, ценности). Наконец, необходимо указать на методологическую роль философии. Философия вырабатывает методы, способы описания и интерпретации текста, которые в дальнейшем выступают методологическим основанием для конкретных исследований в филологии. К примеру, в культуре XX века это структуралисткий подход (К. Леви-Стросс), симиотоический анализ текста (Р. Барт, Ю. Кристева, Ю.М. Лотман), деконструкция Ж. Деррида.
Философия является неотъемлемым спутником филологии. Философия раскрывает текст как пространство смысла, как открытую возможность действия. Поэтому для филолога было бы очень полезно не бояться философии, а видеть в ней необходимую опору для своей научной деятельности. С более полным раскрытием данной темы Вы можете ознакомиться в работах: Философия филологии. Круглый стол //Новое литературное обозрение. 1996, № 17, с. 45-93; Гаспаров М.Л. Критика как самоцель. Новое литературное обозрение. 1994, № 6, с. 6-9.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем Вы видите назначение философии в жизни человека? Объясните различие между реальной философии и философией учений и систем.
2. В чем заключается отличие философии от мифа, религии и науки?
3. В чем Вы видите актуальность обращения к философии в современных социокультурных условиях (экзистенциальный и научный смысл)?
Филология и философия в чем разница
Основным материалом для наших размышлений была здесь филология. Прежде всего потому, что отношения философии и филологии в известном смысле привилегированные. В самом деле, трудно было бы согласиться как с теми философами, ко — торые убеждены, что понятия существуют вне слов и безотно — сительно к ним, так и с теми филологами, которые убеждены, что язык можно изучать безотносительно к понятиям и смыс — лам. Мне представляется неплодотворной эта тенденция ухода в своего рода антифилологию, которая в наши дни проявляется в эпистемологии, в социальной философии, в философской ан — тропологии. Это не значит, что, скажем, философская антропо — логия вовсе не интересуется знаковыми системами, лингвисти — кой или еще чем-то подобным, однако она отрицает за филоло — гией право быть значимой для современности, трактует её как область музеификации слова, противопоставляя это свободное,
«раскованное» отношение материи и возможностям языка; эта тенденция проявляется в работах таких различных по установ — кам, ярких представителей этой дисциплины, как В. Подорога, Ф. Гиренок, Г. Гачев и др. Мое представление о взаимодействии
философии и филологии иное. Думаю, что философия (наука о понятиях) и филология (наука о словах) делят между собою ответственность за нечто общее и лишь совместно приобрета — ют объемный стереоскопический взгляд на важнейшие аспекты культуры (во всяком случае европейской), которого по отдель- ности не могут дать ни та, ни другая. К области их возможных плодотворных взаимодействий относится целый ряд вопросов, поначалу кажущихся узко профессиональными, но по сути тре — бующих тщательно продуманной теоретико-познавательной платформы. Таковы вопросы, связанные с выработкой концеп — туальных языков как подсистем общенационального языка, с созданием тезаурусов по отдельным мыслителям, с анализом пределов и возможностей перевода в узком и широком смыс — ле, иначе говоря, перевода между языками, между культурами, между концептуальными системами, между недискурсивными и дискурсивными, вербализованными образованиями в челове- ческом сознании и психике, в культуре и социуме.
Именно на стыке философии и филологии возникает острая проблема перевода и непереводимости, которая позволяет наме — тить возможные пути, перекрестки и переходы между различными областями знания. В известном смысле можно сказать, что фило — логия подталкивает, направляет философию к проблеме перево — да, надеясь шире использовать богатый историко-теоретический опыт философского столкновения с этой проблемой, а филосо — фия направляет филологию к проблеме рефлексии, прежде всего эпистемологической, которая необходима для всякой гуманитар — ной науки, критически оценивающей свои достижения. Важной областью возможного содружества этих дисциплин всегда была и остается история философии: без участия филолога как пере — водчика и интерпретатора текстов, без его способности анализи — ровать не только логический смысл (тут приоритет, безусловно, остается за философией), но и другие модальности культурного производства высказываний история философии вряд ли могла бы существовать. Изучение проблем открытой структуры рас — крывает перед философией и филологией огромное поле меж — дисциплинарного перевода как основы культурных, социальных, познавательных взаимодействий.
Как уже отмечалось, история отношений между философией и гуманитарными науками достаточно давняя. В исторической ретроспективе последнего столетия постановка философских по сути своей вопросов о том, как соотносится гуманитарное позна — ние с другими видами знания, может ли оно в целом быть на — учным, отличается известной периодичностью: эти вопросы то уходят в тень, то выдвигаются на первый план. Так, вопрос о научности гуманитарного познания остро звучал в начале XX в. при обсуждении методологических программ неокантианства, а также научных претензий герменевтики. Затем, казалось, эта про — блема была снята: в частности, для психологии – бихевиоризмом, который решил, что ему удалось обнаружить, подлинно научные основы психологии, в силу чего все прочие разговоры о сознании просто устарели, для филологии – тем же структурализмом, кото — рый, казалось бы, тоже все поставил на научную основу. Однако эти дискуссии, по сути никогда не прекращавшиеся, через какое — то время вспыхнули с новой силой и с тех пор идут довольно остро, затрагивая материал различных гуманитарных наук и тре — буя участия философии. Новый концептуальный инструментарий и в частности понятие открытой структуры способны придать этим спорам новый смысл. Ведя эти дискуссии, постараемся не упустить главное – мысль о том, что все эти контакты и обмены между философией и гуманитарным познанием упрочивают сам фундамент европейской культуры – представление о ценности познавательного отношения к миру как опоры для всех других ценностей человеческого существования.
Материал взят из : Эпистемология вчера и сегодня — В. А. Лекторский
 ru_philosophy
ru_philosophy
Философское сообщество ЖЖ
«Начну с античного анекдота. В одном греческом городе надо было поставить статую; из-за заказа на эту статую спорили два скульптора, и народное собрание должно было рассудить соискателей. Первый мастер вышел к народу и произнес чрезвычайно убедительную речь о том, как должна выглядеть упомянутая статуя. Второй неловко влез на возвышение для ораторов и заявил: «Граждане! То, что вот этот наговорил, я берусь сделать». Соль анекдота в том, что из обоих мастеров доверять лучше второму. И впрямь, разве тот, кто слишком охотно делает свое ремесло темой для рассуждений, не оказывается чаще всего работником весьма сомнительного свойства? Как говорить о работе? Пока она не завершена, ее страшно «сглазить»; когда она закончена, ее нужно выбросить из головы и думать только о следующей…
Едва ли нужно объяснять, что человеку, попавшему в ситуацию снискавшего награду, особенно неловко вести речь о той самой работе, которая послужила причиной названной ситуации и недостатки которой ему — увы! — так отчетливо видны.
Что такое филология и зачем ею занимаются?
Слово «филология» состоит из двух греческих корней. «Филейн» означает «любить». «Логос» означает «слово», но также и «смысл»: смысл, данный в слове и неотделимый от конкретности слова. Филология занимается «смыслом» — смыслом человеческого слова и человеческой мысли, смыслом культуры, — но не нагим смыслом, как это делает философия, а смыслом, живущим внутри слова и одушевляющим слово. Филология есть искусство понимать сказанное и написанное. Поэтому в область ее непосредственных занятий входят язык и литература. Но в более широком смысле человек «говорит», «высказывается», «окликает» своих товарищей по человечеству каждым своим поступком и жестом. И в этом аспекте — как существо, создающее и использующее «говорящие» символы, — берет человека филология. Таков подход филологии к бытию, ее специальный, присущий ей подступ к проблеме человеческого. Она не должна смешивать себя с философией; ее дело — кропотливая, деловитая работа над словом, над текстом. Слово и текст должны быть для настоящей филологии существенней, чем самая блистательная «концепция».
Возвратимся к слову «филология». Поразительно, что в ее имени фигурирует корень глагола «филейн» — «любить». Это свойство своего имени филология делит только с философией («любословие» и «любомудрие»). Филология требует от человека, ею занимающегося, какой-то особой степени, или особого качества, или особого модуса любви к своему материалу. Понятно, что дело идет о некоей очень несентиментальной любви, о некоем подобии того, что Спиноза называл «интеллектуальной любовью». Но разве математикой или физикой можно
100
заниматься без «интеллектуальной любви», очень часто перерастающей в подлинную, всепоглощающую страсть? Было бы нелепо вообразить, будто математик меньше любит число, чем филолог — слово, или, лучше сказать, будто число требует меньшей любви, нежели слово. Не меньшей, но существенно иной. Та интеллектуальная любовь, которой требует — уже самым своим именем! — филология, не выше и не ниже, не сильнее и не слабее той интеллектуальной любви, которой требуют так называемые точные науки, но в чем-то качественно от нее отличается. Чтобы уразуметь, в чем именно, нам нужно поближе присмотреться уже не к наименованию филологии, а к ней самой. Притом мы должны отграничить ее от ложных ее подобий.
Существуют два, увы, весьма распространенных способа придавать филологии по видимости актуальное, животрепещущее, «созвучное современности» обличье. Эти два пути непохожи один на другой. Более того, они противоположны. Но в обоих случаях дело идет, по моему глубокому убеждению, о мнимой актуальности, о мнимой жизненности. Оба пути отдаляют филологию от выполнения ее истинных задач перед жизнью, перед современностью, перед людьми.
Первый путь я позволил бы себе назвать методологическим панибратством. Строгая интеллектуальная любовь подменяется более или менее сентиментальным и всегда поверхностным «сочувствием», и все наследие мировой культуры становится складом объектов такого сочувствия. Так легко извлечь из контекста исторических связей отдельное слово, отдельное изречение, отдельный человеческий «жест» и с торжеством продемонстрировать публике: смотрите, как нам это близко, как нам это «созвучно»! Все мы писали в школе сочинения: «Чем нам близок и дорог…»; так вот, важно понять, что для подлинной филологии любой человеческий материал «дорог» — в смысле интеллектуальной любви — и никакой человеческий материал не «близок» — в смысле панибратской «короткости», в смысле потери временнoй дистанции.
Освоить духовный мир чужой эпохи филология может лишь после того, как она честно примет к сведению отдаленность этого мира, его внутренние законы, его бытие внутри самого себя. Слов нет, всегда легко «приблизить» любую старину к современному восприятию, если принять предпосылку, будто во все времена «гуманистические» мыслители имели в принципе одинаковое понимание всех кардинальных вопросов жизни и только иногда, к несчастью, «отдавали дань времени», того-то «недопоняли» и того-то «недоучли», чем, впрочем, можно великодушно пренебречь… Но это ложная предпосылка. Когда современность познает иную, минувшую эпоху, она должна остерегаться проецировать на исторический материал себя самое, чтобы не превратить в собственном доме окна в зеркала, возвращающие ей снова ее собственный, уже знакомый облик. Долг филологии состоит в конечном счете в том, чтобы помочь современности познать себя и оказаться на уровне своих собственных задач; но с самопознанием дело обстоит не так просто даже в жизни отдельного человека. Каждый из нас не сможет найти себя, если он будет искать себя и только себя в каждом из своих собеседников и сотоварищей по жизни, если он превратит свое бытие в монолог. Для того, чтобы найти себя в нравственном смысле этого слова, нужно преодолеть себя. Чтобы найти себя в интеллектуальном смысле слова, то есть познать себя, нужно суметь забыть себя и в самом глубоком, самом серьезном смысле «присматриваться» и «прислушиваться» к другим, отрешаясь от всех готовых представлений о каждом из них и проявляя честную волю к непредвзятому пониманию. Иного пути к себе нет. Как сказал философ Генрих Якоби, «без «ты» невозможно «я»» (сравни замечание в Марксовом «Капитале» о «человеке Петре», который способен познать свою человеческую сущность лишь через вглядывание в «человека Павла»). Но так же точно и эпоха сможет обрести полную ясность в осмыслении собственных задач лишь тогда, когда она не будет искать эти ситуации и эти задачи в минувших эпохах, но осознает на фоне всего, что не она, свою неповторимость. В этом ей должна помочь история, дело которой состоит в том, чтобы выяснять, «как оно, собственно, было» (выражение немецкого историка Ранке). В этом ей должна помочь филология, вникающая в чужое слово, в чужую мысль, силящаяся понять эту мысль так, как она была впервые «помыслена» (это никогда невозможно осуществить до конца, но стремиться нужно к этому и только к этому). Непредвзятость — совесть филологии.
Люди, стоящие от филологии далеко, склонны усматривать «романтику» труда филолога в эмоциональной стороне дела («Ах, он просто влюблен в свою античность. »). Верно то, что филолог должен любить свой материал — мы видели, что об этом требовании свидетельствует само имя филологии. Верно то, что перед лицом великих духовных достижений прошлого восхищение — более по-человечески достойная реакция, чем прокурорское умничанье по поводу того, чего «не сумели учесть» несчастные старики. Но не всякая любовь годится как эмоциональная основа для филологической работы. Каждый из нас знает, что и в жизни не всякое сильное и искреннее чувство может стать основой для подлинного взаимопонимания в браке или в дружбе.) Годится только такая любовь, которая включает в себя постоянную, неутомимую волю к пониманию, подтверждающую себя в каждой из возможных конкретных ситуаций. Любовь как ответственная воля к пониманию чужого — это и есть та любовь, которой требует этика филологии.
Поэтому путь приближения истории литературы к актуальной литературной критике, путь нарочитой «актуализации» материала, путь нескромно-субъективного «вчувствования» не поможет, а помешает филологии исполнить ее задачу перед современностью. При подходе к культурам прошедшего мы должны бояться соблазна ложной понятности. Чтобы по-настоящему ощутить предмет, надо на него натолкнуться и ощутить его сопротивление. Когда процесс понимания идет слишком беспрепятственно, как лошадь, которая порвала соединявшие ее с телегой постромки, есть все основания не доверять такому пониманию. Всякий из нас по жизненному опыту знает, что человек, слишком легко готовый «вчувствоваться» в наше существование, — плохой собеседник. Тем более опасно это для науки. Как часто мы встречаем «интерпретаторов», которые умеют слушать только самих себя, для которых их «концепции» важнее того, что они интерпретируют! Между тем стоит вспомнить, что само слово «интерпретатор» по своему изначальному смыслу обозначает «толмача», то есть перелагателя в некотором диалоге, изъяснителя, который обязан в каждое мгновение своей изъясняющей речи продолжать неукоснительно прислушиваться к речи изъясняемой.
Но наряду с соблазном субъективизма существует и другой, противоположный соблазн, другой ложный путь. Как и первый, он связан с потребностью
101
представить филологию в обличье современности. Как известно, наше время постоянно ассоциируется с успехами технического разума. Сентенция Слуцкого о посрамленных лириках и торжествующих физиках — едва ли не самое затасканное из ходовых словечек последнего десятилетия. Герой эпохи — это инженер и физик, который вычисляет, который проектирует, который «строит модели». Идеал эпохи — точность математической формулы. Это приводит к мысли, что филология и прочая «гуманитария» сможет стать современной лишь при условии, что она примет формы мысли, характерные для точных наук. Филолог тоже обязывается вычислять и строить модели. Эта тенденция выявляется в наше время на самых различных уровнях — от серьезных, почти героических усилий преобразовать глубинный строй науки до маскарадной игры в математические обороты. Я хотел бы, чтобы мои сомнения в истинности этой тенденции были правильно поняты. Я менее всего намерен отрицать заслуги школы, обозначаемой обычно как «структурализм», в выработке методов, безусловно оправдывающих себя в приложении к определенным уровням филологического материала. Мне и в голову не придет дикая мысль высмеивать стиховеда, ставящего на место дилетантской приблизительности в описании стиха точную статистику. Поверять алгеброй гармонию — не выдумка человеконенавистников из компании Сальери, а закон науки. Но свести гармонию к алгебре нельзя. Точные методы — в том смысле слова «точность», в котором математику именуют «точной наукой», — возможны, строго говоря, лишь в тех вспомогательных дисциплинах филологии, которые не являются для нее специфичными. Филология, как мне представляется, никогда не станет «точной наукой»: в этом ее слабость, которая не может быть раз и навсегда устранена хитрым методологическим изобретением, но которую приходится вновь и вновь перебарывать напряжением научной воли; в этом же ее сила и гордость. В наше время часто приходится слышать споры, в которых одни требуют от филологии объективности точных наук, а другие говорят о ее «праве на субъективность». Мне кажется, что обе стороны неправы.
Филолог ни в коем случае не имеет «права на субъективность», то есть права на любование своей субъективностью, на культивирование субъективности. Но он не может оградиться от произвола надежной стеной точных методов, ему приходится встречать эту опасность лицом к лицу и преодолевать ее. Дело в том, что каждый факт истории человеческого духа есть не только такой же факт, как любой факт «естественной истории», со всеми правами и свойствами факта, но одновременно это есть некое обращение к нам, молчаливое окликание, вопрос. Поэт или мыслитель прошедшего знают (вспомним слова Баратынского):
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Мы — эти читатели, вступающие с автором в общение, аналогичное (хотя никоим образом не подобное) общению между современниками («…И как нашел я друга в поколеньи»). Изучая слово поэта и мысль мыслителя прошедшей эпохи, мы разбираем, рассматриваем, расчленяем это слово и эту мысль, как объект анализа; но одновременно мы позволяем помыслившему эту мысль и сказавшему это слово апеллировать к нам и быть не только объектом, но и партнером нашей умственной работы. Предмет филологии составлен не из вещей, а из слов, знаков, из символов; но если вещь только позволяет, чтобы на нее смотрели, символ и сам, в свою очередь, «смотрит» на нас. Великий немецкий поэт Рильке так обращается к посетителю музея, рассматривающему античный торс Аполлона: «Здесь нет ни единого места, которое бы тебя не видело. — Ты должен изменить свою жизнь» (речь в стихотворении идет о безголовом и, стало быть, безглазом торсе: это углубляет метафору, лишая ее поверхностной наглядности).
Поэтому филология есть «строгая» наука, но не «точная» наука. Ее строгость состоит не в искусственной точности математизированного мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания. Одна из главных задач человека на земле — понять другого человека, не превращая его мыслью ни в поддающуюся «исчислению» вещь, ни в отражение собственных эмоций. Эта задача стоит перед каждым отдельным человеком, но и перед всей эпохой, перед всем человечеством. Чем выше будет строгость науки филологии, тем вернее сможет она помочь выполнению этой задачи. Филология есть служба понимания.
Вот почему ею стоит заниматься.
Как случилось, что я занялся именно Плутархом — греческим писателем и популярным философом, который родился около 46 года нашей эры, написал знаменитые биографии греческих и римских героев и великое множество других сочинений и окончил свой жизненный путь в 20-е годы II века?
Мой выбор состоялся, когда я был студентом второго курса Московского университета по отделению классической филологии. К этому времени мне было ясно для начала одно: что я буду заниматься не Афинами времен Софокла и Фидия или Платона и Демосфена, не Римом времен Вергилия и Горация, а куда более скромной — и куда менее изученной! — закатной порой древнегреческой культуры. В ходовых курсах по истории античной литературы или античной философии до поздней античности едва «доходят», чтобы отделаться лаконичной характеристикой этой поры всеобщего упадка и развала. Но мне поздняя античность казалась временем, достойным самого живого исследовательского любопытства. Есть «великие» эпохи, которым дано запечатлеть свои устремления в четких и завершенных формах мысли, жизни, искусства: эти эпохи принято называть классическими. Но есть другие эпохи, на долю которых выпадает черновая работа по «демонтажу» старых, исчерпавших свой смысл форм творчества — и подготовительная работа по нащупыванию новых форм, новых возможностей. Эти эпохи принято называть эпохами упадка. Я думаю, что справедливее называть их эпохами перехода. Они менее «красивы», чем классические эпохи, но едва ли беднее их.
(В скобках замечу, что за истекшее время не разочаровался в поздней античности. Закончив работу над Плутархом, я ушел еще дальше от античной классики — к IV?VI векам, когда античность уже перетекала в средневековье.)
Итак, я был студентом второго курса, и мне предстояло выбрать тему для курсовой работы следующего года. Моим руководителем был профессор Сергей Иванович Радциг, прошедшей осенью, к глубокому прискорбию своих многочисленных учеников, скончавшийся. Он предложил мне на выбор несколько авторов, и я остановился на Плутархе. Я
102
боюсь, что первое из руководивших мной соображений горько разочарует читателя своей прозаичностью, и все же прошу отнестись к нему серьезно: от сочинений Плутарха много дошло. Правда, сохранившиеся тексты составляют едва ли половину всего, что писал неутомимый херонеец, но их все же достаточно, чтобы наполнить дюжину томиков знаменитой «тейбнеровской» серии. Меня привлекала перспектива окунуться не в «концепции», а в тексты, вслушиваться в голос одного и того же писателя, когда он рассуждает и рассказывает, восхищается и негодует, ведет речь о подвигах героев или об ошибках, которые может совершить женщина при стирке белья (есть у него и такое!). Есть замечательные и достойные всяческого внимания античные авторы, от которых дошло по нескольку строк: каждое слово, заключенное в этих строках, обрастает десятками исследовательских домыслов, догадок, гипотез. Заниматься такими авторами и нужно и интересно. Но для начала мне хотелось послушать не интерпретаторов, но самого писателя, хотелось иметь дело не с гипотезами и контргипотезами, а с фактами. Это не значит, что мне хоть на минуту приходило в голову пренебречь всеми старыми и новыми исследованиями о Плутархе: их я читал, сколько мог прочесть, и они мне очень много дали. Но сейчас я думаю о другом: у немецкого художника XX века Отто Панкока, которого я очень люблю, в числе прочих придуманных им «десяти заповедей живописца» есть и примерно такое изречение: «Дерево должно быть для тебя важнее, чем самая умная выдумка Пикассо». Я думаю, что для филолога конкретная реальность текста, доносящая до него через тысячелетия живой человеческий голос, должна быть душевно важнее, чем самые гениальные соображения по поводу этого текста; иначе филологии грозит беспредметность. В те годы я еще не знал упомянутого изречения Панкока, но беспредметности, честно, боялся и тогда.
Вторая причина, по которой я выбрал Плутарха: я знал, что множество великих творцов европейской культуры, таких, как Монтень, Шекспир, как Жан-Жак Руссо и другие, были горячими почитателями этого писателя (кстати, высказывания Монтеня и Руссо о Плутархе дали мне то, чего не смогли бы дать ученые комментарии). Сквозь века от Ренессанса до романтизма проходит непрерывное течение плутарховской традиции. Заняться Плутархом — значило встать у начала этой традиции и собственными глазами, не доверяясь пересказам и описаниям, увидеть ее истоки. Мне это показалось соблазнительным.
И вот я написал о Плутархе курсовую работу, потом еще одну, потом дипломную работу. Я продолжал им заниматься, потому что увидел: в творческом облике этого широко известного автора есть черты, до сих пор не освоенные по-настоящему наукой. Дело в том, что Плутарх изучался по преимуществу как «представитель» — представитель своей эпохи, представитель своей жанровой традиции. Та по-своему блестящая методология историко-литературного исследования, которая была разработана классической немецкой наукой, превращает литературный процесс в цепь взаимодействий. Но ведь, кроме того, что Плутарх испытал такие-то влияния и, в свою очередь, сам повлиял на таких-то последователей, существенно, что он был, был самим собой, что он мог не только испытывать влияния, но и отталкиваться от них и заявлять в каких-то пунктах свое авторское своеволие (хотя бы и на такой ровный, тихий манер, который соответствует натуре Плутарха, менее всего похожего на тип гениального скандалиста). Наверное, если бы Плутарх был во всем похож на своих учителей по биографическому жанру, он не сумел бы их затмить (а ведь то что все древнегреческие произведения в этом жанре, написанные до Плутарха, были забыты и утрачены, о чем-то говорит!). Наверное, если бы Плутарх был во всем похож на своих современников, он не сумел бы занять среди них свое, особое место (а ведь о его неповторимости говорит уже поэт VI века Агафий).
Я читал современников Плутарха и греческих писателей ближайших к.нему по времени поколений. Вот философ Эпиктет, чьи назидательные рассуждения известны нам по записи его ученика Арриана. И Эпиктет и Плутарх — философы, занимавшиеся вопросами морали; их обоих можно занести в одну рубрику и назвать «представителями позднеантичного морализма». Но как они непохожи! Если угодно, Эпиктет значительнее Плутарха: это раб, сумевший суровым напряжением духа стать выше своих господ, затравленный человек, создавший свою философию на краю человеческого существования. Для него важно одно: сжав зубы, суметь презрительно отвергнуть все приманки жизни и через это стать свободным. Но у Плутарха было одно преимущество перед моралистами этого типа: уравновешенное отношение к миру, исключающее всякую напряженность, неестественность и фанатизм. Он являл в себе редкое для моралиста непредубежденное любопытство ко всему человечеству и умение выслушивать не только себя, но и своего собеседника. Именно это оказалось выигрышным для него как для писателя. Чтобы стать большим философом, ему недоставало страсти к абстракции; его сила была в конкретном. В этом внутренняя закономерность того, что он от позиции учителя жизни переходит к роли чуткого изобразителя жизни.
Или возьмем другого современника Плутарха — оратора и философа Диона Хрисостома. Нервное, напряженное творчество Диона до предела обращено к тому, что в его время было актуальным и в политике и в литературе: он изведал блистательную карьеру в столице империи, ссылку, а по возвращении из нее — участие в большой политике, и его литературные устремления находились в полном соответствии с тем, куда предстояло в ближайшие десятилетия идти греческой литературе. Есть основания думать, что Дион и Плутарх недолюбливали друг друга: наверное, Дион казался Плутарху суетливым авантюристом, а Плутарх Диону — провинциальным, отставшим от жизни стародумом. Однако для потомков неторопливая рассудительность Плутарха оказалась притягательнее, чем красноречие Диона, прозванного Хрисостомом — «Златоустом»…





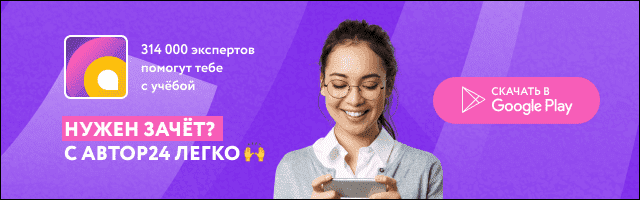
 ru_philosophy
ru_philosophy